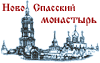
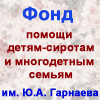
|
Февраль 2006
Содержание номера Главная страница номераАлёшино место
В нашей церкви долгие годы прислуживал батюшке Алеша, одинокий и, как казалось, несчастный горбун. Ему на войне повредило позвоночник, его лечили, но не вылечили. Так он и остался согнутым. Еще и одного глаза у него не было. Ходил он круглый год в валенках, жил один недалеко от церкви, в боковушке, то есть в пристройке с отдельным входом. Он знал наизусть все церковные службы: литургию, отпевания, венчание, крещение, был незаменим при водоосвящении, всегда точно и вовремя подавал кадило, кропило, выносил свечу, нес перед батюшкой чашу с освященной водой - одним словом, был незаменим. Питался он раз в сутки, вместе с певчими в церковной сторожке. Казалось, что он был нелюдим, но я свидетель тому, как при крещении деточек озарялось радостью его лицо, как он улыбался венчающимся и как внимательно и серьезно смотрел на отпеваемых. Я еще помнил то время, когда Алеша ходил бодро, выдвигая вперед правое плечо, и казалось, что всегда неутомим и бодр, будет служить, но нет, во всем Господь положил предел, Он милостив к нам и дает отдохновение: Алеша заболел, совсем занемог, даже ходить ему стало трудно, не то что служить, и он поневоле перестал помогать батюшке. Никакой пенсии Алеша не получал, даже и не пытался оформить ее. Деньги ему были совсем не нужны. Он не пил, не курил, носил одну и ту же одежду и растоптанную обувь. Никакие отделы социального обеспечения о нем и не вспомнили. А вот военкомат не забыл. К праздникам и к Дню Победы в храм приходили открытки, в которых Алешу поздравляли и напоминали, что ему надо явиться за получением наград. Присылали талоны на льготы на все виды транспорта. Но Алеша никуда не ходил и ничем не пользовался. Кто его видел впервые, дивился на его странную, нарушающую, казалось, порядок фигуру, но мы, кто знал его давно, любили Алешу, жалели, пытались заговорить с ним. Он отмалчивался, благодарил за деньги, которые ему давали, и отходил. А деньги, не вникая в их количество, тут же опускал в церковную кружку. Мы видели, как тяжело он переживал свою немощь. С утра с помощью двух костылей притаскивал себя в храм, тяжело переступал через порог, хромал к скамье в правом притворе и садился на нее. Место его было напротив Распятия. Алеша сидел во время чтения часов, литургии, крещения, венчания и отпевания, если они бывали в тот день, а потом уже уползал домой. Певчие жалели его и просили батюшку, чтобы Алеша обедал с ними. Конечно, батюшка разрешил. Да и много ли Алеша ел: две-три ложки супа, полкотлеты, стакан компоту, а в постный день обходился овсяной кашей и кусочком хлеба. Иногда немного жареной рыбки, вот и все. Во время службы Алеша шептал вслед за певчими, дьяконом и батюшкой слова литургии, вставал, когда выносили Евангелие, причастную чашу, когда поминали живых и усопших. Стоя на службе, я иногда взглядывал на Алешу. Его, будто траву ветром, качало словами распева молитв: "Не надейтесь на князи, на сыны человеческия", Заповедей Блаженств, Херувимской, и, конечно, он вместе со всеми, держась за стену, вставал и пел Символ веры и Отче наш. Я невольно видел, как он страдал, что не может встать на колени при выносе чаши со Святыми Дарами, при начале причащения. Когда кончалась служба, батюшка подходил после всех к Алеше и благословлял его крестом. А еще у нас в храме была такая бойкая старуха тетя Маша. Очень она была непоседлива. Но и очень богомольна. Объехала много святых мест и продолжала их объезжать. - Да разве это у нас вынос плащаницы? - говорила она. - Вот в Почаевской лавре - там это вынос, а у нас как-то обычно. А что такое у нас чтение Андрея Критского? Пришли четыре раза, постояли, разошлись. Нет, вот в Дивеево, вот там это - да, там так продирает, там стоишь и рыдаешь. А уж Пасху надо встречать в Пюхтице. Так и возносит, так и возносит. А уж на Вознесение надо в Оптину. Вот где благодать. Там же и в Троицу надо быть. Сена накосят - запахи! Когда Алеша был в состоянии сам ездить, она его упрекала, что он не посетил никаких святых мест, а мог бы - у него, фронтовика, льготы на все виды транспорта. Алеша только улыбался и отмалчивался. Думаю, что он никак не мог оставить службу в храме. А она у него была ежедневной. Даже в те дни, когда не было литургии, Алеша хлопотал в церковной ограде, помогал сторожу убирать двор, ходил за могилками у паперти. Тогда Маша, решив, чтоб зря не пропадали Алешины льготы, стала брать у него проездные документы. Поэтому, конечно, она так много и объехала. А уж когда Алеша совсем занемог, Маша окончательно взяла его проездные себе. И вот Алеша умер. И как-то так тихо, так умиротворенно, что мы и восприняли очень спокойно его кончину. Я пропустил два воскресенья, уезжал в командировку, потом пришел в храм, и мне сказали, что Алеша умер, уже похоронили. Я постоял над свежим золотистым холмиком его могилы, помолился и пошел поставить свечку за его поминовение. Пришел в храм, а на месте Алеши сидела Маша. - Наездилась, - сказала она мне. - Буду на Алешином месте сидеть. Теперь уж моя очередь. Потом какое-то время я долго не был в храме, опять уезжал. А когда вернулся и пришел на службу, на Алешином месте сидела новая старуха, не Маша. Оказывается, и Машу уже схоронили. И Алешино место освободилось для этой старухи. - С Алешиного места - прямо в рай, - сказала она. Часто я вспоминаю Алешу. Так и кажется иногда, что вот он выйдет со свечой, предваряя вынос Евангелия, или сейчас поднесет кадило батюшке, будет стоять, серьезный и сгорбленный, при отпевании, и как же озарится его измученное, сморщенное лицо, когда закричит окунаемый в святую купель крещаемый младенец.
|