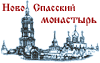Содержание номера Главная страница номераДеревня, "караул!"
Как-то рассказали мне об одном донском хуторе. А дело такое: всё его небольшое население к зимним холодам собирается в одну хату. Так безопаснее, дешевле, и прокормиться легче, а главное - чтоб не помереть в одиночку. Так и зимуют. А мне вспомнилась другая деревня - Камышинка в Саратовской области, куда однажды занесла меня как-то журналистская судьба. Говорили, что вымерло село, осталось там два человека, и вот когда им совсем становится невмоготу, они выходят на крыльцо и кричат: "Караул!" Их никто не слышит, а они всё равно кричат, пока не станет легче. Я живо представил себе, как два согбенных, отживающих свой век человека - в латаных валенках и затасканных телогрейках - отворяют присыпанную сугробом дверь и, задохнувшись холодным и резким степным ветром, кричат слабеющими голосами: "Ка-ра-ул!.." В этом крике всё: отчаянье от надвигающейся немощи, страх от возможности умереть в холодной избе, - и никто не узнает о твоей кончине, - и надежда - а вдруг кто-нибудь услышит, придёт, отогреет сердце душевным разговором. В этом крике - обида на детей, которые забыли своих престарелых родителей, боль и тревога за внуков; и ещё какая-то душевная, глубинная жалоба на огромную несправедливость, когда вся жизнь кажется одним большим обманом, только непонятно, кто обманывает и зачем... И захотелось мне закричать "караул!" вместе с этими стариками.
Выйти на шаткое крыльцо и выкрикнуть, выплеснуть из себя всю боль
сумасшедшего времени. Такая вот была идея. Надо сказать, несколько авантюрная, сумасшедшая, излишне эмоциональная. А Камышинка оказалась живой. По крайней мере, жизнь теплилась в десятке домов. И я растерялся: в какой дом стучаться? Как узнать, кто кричит "караул"? Чего доброго, за сумасшедшего примут. Пожилой, ещё не перекушенный болезнями и нуждой мужик перепахивал огород. Был он коренаст, широкоплеч, в его движениях угадывалась уверенность и сила. Такому зачем кричать? А он: - Да, пожалуй, скоро и закричу... Вот вымрут последние старики, останусь один и закричу. - Так уезжай. - Куда? А это? - тычет он прокуренным пальцем на дом, на хозяйство, на огород, - да и кому я где нужен? Присели возле плетня, закурили. - Ты к Анне Скрябиной сходи. Соседка моя, мужа сорок дней назад схоронила. Может, это она "караул!" кричит? Бабушка Анна спала. С её сестрой Надеждой Яковлевной мы едва достучались до неё, даже испугались - уж не случилось ли что? Но ничего не случилось. В жарко натопленной горнице тикали ходики, на печке в корзинке попискивали цыплята. Узнав, что в деревню кто-то приехал - уж не начальство ли какое? - в избу потянулись соседи. Пришёл и Василий Фёдорович Морозов, самый грамотный из стариков. Жалобу ли написать, письмо ли, бумагу какую сочинить - всё к нему. Старухи заговорили все разом, вроде как и не со мной, а друг с другом, спеша выговориться. - Хлеб-то три дня в неделю привозят, уж мы и рады... - Чулки-то всё штопаем, штопаем. Купили бы новые, так пенсии-то маленькие... - Да нам бы только дорогу вымостили. Ведь прихватит - ложись в колею и пусть хоть трактор закапывает... Доводилось слышать: русские счастливы потому, что не знают, до чего плохо живут. Слушая этих умирающих старух в этой умирающей деревне, я думал: конечно, они до конца не знают, насколько плохо живут. Просто другой жизни они не видели. Да и не согласятся на неё, привыкшие к своей деревне, к своему укладу. В городских квартирах они тоскуют и с первым весенним солнышком рвутся обратно, как птицы, к своим гнёздам. Но они знают, что живут плохо. Даже хуже, чем в войну. Потому что в войну выживали всем миром, а теперь - каждый в одиночку. Терпят. Вроде и просят, но самую малость: замостить дорогу да прибавить пенсию, чтоб купить новые чулки и не ходить босыми на старости лет. Не потому не просят больше, что понимают - неоткуда. А потому, что знают: есть люди, которые живут ещё хуже. - На другом краю деревни слепой фронтовик живёт - без воды, без дров. Может, он "караул!" кричит? Василий Морозов проводил меня к дому фронтовика. Им оказался Дмитрий Фёдорович Самошин. Контузия лишила его слуха. А после войны, уже в колхозе, намётом прижало спину. Теперь не только не слышит, но и не видит. Детей нет, надеяться не на кого. Когда мы с Морозовым вошли в избу, Самошин спал. Встретила нас его жена, Анна Петровна. - Как живём-то? Да вот так и живём. Вчера печь топили, а сегодня не знаем, будем топить или нет. Сил совсем не осталось. Ни дров наколоть, ни воды принести. Приплачиваю с пенсии племяннице, чтоб хоть на колодец сходила. В середине разговора проснулся Дмитрий Фёдорович. - Нюра, кто у нас? - Да из Москвы приехали... - А-а. Ты им про справку-то напомни, может, похлопочут... Какую-то нужную бумагу Дмитрий Фёдорович утерял, когда в войну выбирался из окружения, и теперь никак не восстановит. Морозов куда-то писал запрос, да пришла отписка. - Он уж и плачет: как я ни воевал, а про меня забыли, в пенсиях с бабами уравняли, - говорит о муже Анна Петровна. - А то норовил руки на себя наложить, так я даже колодец во дворе завалила. Одну зиму Самошины уезжали к племяннику в город, но вернулись. Тут, в Камышинке, и земля своя, и воздух роднее. Сядут рядком на завалинку - дома! А то Дмитрий Фёдорович возьмёт в руки гармошку да запоёт: "Прощай, страна моя родимая..." Люди плачут. Всё, всё, всё! Я понял, что больше не выдержу. Выбегу на крыльцо и заору. И никакое не "караул!", а просто "А-а-а-а". Да сколько можно душу-то рвать? И одни ли Самошины в таком горе? За что же, за какие такие прегрешения выпала им эта доля? Однажды во сне я услышал мысль: зло на землю сброшено для того, чтобы там сгореть. Но как оно может сгореть, если оно в каждом из нас? Выходит, каждый должен сжечь его в себе? Но как сжечь, если оно, убегая из одной души, тут же заселяется в другую ?.. Как-то ходил я с рюкзаком по Псковщине. Уже на обратном пути за полчаса до поезда зашёл в Троицкий собор Псковского кремля. В храме никого не было. Затеплил свечу, слышу, скрипнула дверь, вошёл кто-то. Обернулся - старушка с костыльком. Подумал: должно быть, служительница. Однако, собрался уходить, поднялась и она. - Извините, не дадите ли немного денег? Не хватает до пенсии... Я полез за кошельком. - Одинокая я, детей нет. Да вы не думайте, я только в последние дни на паперть хожу. Всё равно стыдно... Господи, да что же ты оправдываешься, мать? Это нам, молодым, должно быть стыдно, что под старость лет отправили тебя просить милостыню. - Спасибо, сынок! Да за что спасибо-то? Ведь и на мне вина, что, чуть не плача от стыда, просишь на пропитание. И на мне грех. Не я ли пел оды рынку, видя в нём спасение? А он обернулся полным беспределом, бесправием. Не я ли призывал демократию, полагая, что главной ценностью при ней станет наконец-то человеческая личность. А она обернулась анархией, где правит бал сильный и попирается больной и слабый. Прогоняя одно зло, я верил, что на смену ему придёт добро и милосердие. Но попёрло вдруг другое зло - ещё хлеще, ещё омерзительнее и беспощаднее. И я, мать, был среди тех, кто впускал его в ворота нашего монастыря. Бабушка моего товарища всё говорила: мы-то ладно, у нас хлеб да квас есть, а как же негры безработные в Америке живут? Она готова была поделиться с ними последним куском хлеба, но то, что она живёт всё-таки лучше, и есть люди, вынужденные жить гораздо хуже, хоть как-то примиряло её с жестокой действительностью. Теперь мы увидели, что живём едва ли не хуже всех. И стали искать оправдание этой нескладной жизни. Как-то вечером зашёл сосед Виктор. Он работает шофёром, развозит баллоны с газом по деревням. У Виктора украли за ночь капусту с огорода. Жена в сердцах отлаяла его, он поколотил собаку. Потом, отойдя сердцем, стал размышлять. Ну кто виноват, что людям нечего есть и не на что купить еды? А с другой стороны, как жить в таких условиях? Сегодня срезали кочаны, завтра поросёнка из хлева уведут. Сегодня приходили ночью, тайком, а завтра - днём, в открытую. Приставят нож к горлу - что сделаешь? Да нет, он не о том хотел сказать. Вот у него в семье три поколения мужиков воевали. Отец - в финскую, сам он участвовал в венгерских событиях, сын был в Афганистане. А за что? "Нет, ты скажи мне, дураку, чего защищали, чего отстаивали?" - допытывался он. И плакал, а я не знал, что ему ответить. И вдруг подумал, что все мы - жители деревни Камышинка. А точнее, вся страна - это одна большая деревня "Караул !", и мы - её жители. Когда я ехал в Камышинку, многие мои знакомые просили взять меня с собой. "Караул!" крикнуть хотелось всем. У одних ограбили квартиру, и они поняли, что материальное благополучие в России - призрак, песок, на котором нельзя строить дом. Другого в подъезде едва не убили, и он понял, что в нынешней России не защищены не только его честь и достоинство, но и его жизнь. У третьих подрастает дочь, и они боятся за неё, каждый раз провожая и встречая из школы. У четвёртого безнадёжно больна мать, и ему глубоко наплевать на все политические лозунги и партии, ведь ни одна из них не может хоть на самую малость унять страдания обречённой. Я, как бы отшучиваясь, обещал покричать за всех. И вот, выходит, подвёл, не сдержал обещанного слова. Тем не менее, это, казалось бы, шуточное, дурашливое обещание делало меня всё же как бы виноватым перед этими людьми. И я, вернувшись из командировки, всё время помнил о нём. И вот однажды оказался в совсем заброшенной деревне. Ни одного жилого дома, ни одной живой души. "Вот здесь, - подумал, - и исполню обещанное". Вышел из машины. Взошёл на крыльцо одного из оставшихся строений. Распахнул дверь. Изнутри повеяло нежилой сыростью. "Вот и хорошо, - подумал я, - вот и ладненько. И никто не слышит. И не стыдно". Открыл рот. Набрал воздуха в грудь... И вдруг испугался. Что не выдержат нервы, рассудок, сердце. Сошёл с крыльца, пошёл к людям. Негоже быть человеку едину. Давайте кричать вместе...
|