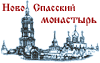Содержание номера Главная страница номераНевещественное прочнее осязаемого…
Исполнилось 110 лет со дня рождения прекрасного русского писателя, блестящего стилиста Бориса Викторовича Шергина
Случаются порою писатели, которые легко кочуют из века в век без особых усилий с их стороны, и живут они как бы во всех временах. Помнится, я ещё ребёнком читывал Шергина, полагая его за писателя старинной выкройки. Нынче русскому словотворцу исполнилось бы сто десять лет. Шергин так плотно запечатлелся во времени, что его, как бы ни старались иные, уже не выжить из русской словесности. Шергин - наш духовный наставник и исповедник, ещё один непрочитанный и недооцененный русский классик. Почитай, уж больше тридцати лет минуло, как повстречался с Борисом Шергиным, но весь он во мне, как окутанный в сияющую плащаницу неизживаемый образ. Только вот слов не хватает самых верных и точных, чтобы вызволить облик из-за этого покровца, оживить его. Помню, как за дверью послышались шаркающие шаги. Дверь отпахнулась. В полумраке длинного коммунального коридора - согбенный старик, совсем изжитой какой-то, бесплотный. "Я нынче-то со скоростью звука хожу, а ты молодой, дак со скоростью света", - шутит Шергин скороговоркою, широким жестом приглашает в покои. Несмотря на осиянный пронзительный день на воле, здесь, в крохотном чулане, горит свет, уже согрет чайник, насыпано в простенькую фаянсовую тарелку печенье из пачки. Я тушевался по молодости лет, не мог войти в разговор, худость самого житья, вопиющая бедность разрушали образ писателя; по молодости лет я не мог понять, в чём сила этого старца, а она, несомненно, была, я тайно ощущал её, но не мог облечь в чувства. Писатели, которых я, начинающий журналист, видал, были почтенны и вежливы, они ходили в бобровых воротниках, были недоступны, о них шумели, им втайне завидовали. Тут же был человек из другого разряда: в центре Москвы жил монах в миру и писал светлые, напоённые радостью книги. Борис Викторович провёл меня в комнату: окно завешено солдатским одеялом, под потолком тлеет тусклая лампёшка. Шергин опускается на железную узкую койку, сложив на коленях руки, уставливается на желтоватый свет, едва улавливая его, и так замирает. Глаза у старика туманны, словно бы накрыты голубоватой, малопрозрачной завесою, но и странно живые, без той белёсой пустынности, какая бывает у вовсе слепых. Я же, не зная, как подхватить беседу, обегаю взглядом убогое житьишко. Этажерка с десятком книг (всё, что осталось от богатой библиотеки), на полочке под потолком трёхмачтовая шхуна. И реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж при ней - отцова работа. На стене пейзаж Степана Писахова: окраек туманного осеннего Белого моря... Шергин скашлянул, напоминая о себе. Он вроде бы потерял провинциального тихого гостя, вдруг прикатившего из родного Архангельска, того святого для писателя Города, с коим неразлучна была его душа. Я отпахнул угол солдатского рыжего одеяла: в низком окне - розвесь черных ветвей Рождественского бульвара, живая древесная паутина уже обнизана розовым весенним облаком. Солнечный половик раскатался по комнате, теплый небесный свет коснулся старца, и Шергин расчуял его. "Слава те Богу, раньше-то день подвигался на воробьиный шажок, потом на куриный скачок, а сейчас уж гусиным махом, -засмеялся, как голубь загулькал. - Хорошо на улке-то? Хо-ро-шо!.. Я-то, вот, старый, всё сплю, а деревья не спят, они завсе живут, глядя в занимающиеся зори утра. Живы они и свет вечный видят... Я трепетно обожаю предначатие весны. Весна для меня - невеста неневестная. Душа моя молится этой таинственной поре..." Вздохнул и замолчал, не стирая с лица улыбки. От природы Шергин не был шибко красовит, но та долгая духовная работа, коей без остатка отдался писатель, то совершенствование, порой изнурительное, похожее на лютейшую немилость и каторгу, именно оно-то и наложило на облик писателя свой отпечаток, по-иному вылепило его. Шергин облагородился и освятился, печать иночества сотворила иное лицо. Оно стало прекрасным. Я взял лист бумаги и стал рисовать. Осиянный человек сердечными очами всматривался в огромную обитель души, заселённую светлыми образами, и благое чувство, истекая от него, невольно заражало радостью и меня. Я, молодой свежий человек, вдруг нашёл укрепу у немощного старца. Я подал ему скорый карандашный набросок. Шергин долго не отпускал рисунок, поглаживая пальцами, словно бы считывал с листа незаёмные мысли. Он настолько отряс с себя бренную плоть, настолько нечувствителен стал к суетному, что скитаясь по комнатке, совершенно свободный от мира вещей, уже почти не подпираемый страстями извне, жил лишь образами дней ушедших. "Невещественное прочнее осязаемого"... Господь послал немало испытаний этому человеку. В юности отрезало трамваем ногу; потом любимая девушка покинула его, и Шергин дал обет монашества; потом пятнадцать лет слепоты и пожизненное одиночество. Поэзия выбирает себе верных духовных певцов. Казалось бы, выгореть должна душа, испепелиться, а тут выработал человек свой нравственный урок и упорно следовал ему до края: "Лукавый ведь может подсунуть в сознание тебе: "Вот-де мне что приходится выносить! Вот-де что я терплю! Вот эта собственная бешенина и застит нам глаза, не даёт понять, что не мы терпим, не я терплю, а от меня и только от меня терпят". За окном жила московская улица, но этот неумолчный накатный гуд напоминал писателю бессонное Белое море со свинцово-черными валами, отороченными белыми кружевами. И как бы сотканные из морской пены, из глубинной плоти, из слепящего простора вдруг вживе приходят в камору давно усопшие родители и давние спутники жизни - корабелы, отчаянные зверовщики, и большого художества мастера, и древние дедичи-скитники, и многомысленные келейные монахи, и монастырские трудники, и морской пашенки вечные страдники. "Не говорю с тоской - их нет, но с благодарностию - были". Нет ничего труднее, как оборять свои страсти. Исповедуешься так-то на бумаге, ино легче станет. И он, Шергин, тоже трудно устроял себя, трудно изживал бренную плоть. Вот клочок бумаги. Помечен военной датой. Сорок четвертый год. "Я, например, никогда не жду над собою чудес физических исцелений... Материя и должна отмирать. У одного раньше, у другого позже. С точки зрения "мира сего" я из тех людей, каких называют несчастными. Без ног, без глаз. Еле брожу, еле вижу. Профессор Маргулис как-то похлопал меня по плечу, и всегда холодный, равнодушный, участливо сказал: "Не много ли для одного человека?" Но я думаю, как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастливых, особенно в последние смертоносные годы. В такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей..." Совесть всегда подпирала Шергина, и определял он течение жизни по Божиим заповедям. А натура, оказывается, не замирает, и, окованная знанием отеческим, она волнуется и чувствует до гробовой доски, но не коснеет, устало засыпая от старости. Как бы хорошо в монастырской келеице уряжену, ухожену быть любимой братией. Отправился Шергин в Сергиев Посад проситься за стены. Поговорил со старцем, и тот, покачав головою, отказал в приюте: "Нельзя вам, Борис Викторович, в монашество. Ещё рано. Многочувственный вы человек..." А ведь смерть уже стояла за порогом... Старец расчувствовал в просителе сокровенное, что писатель прятал от самого себя. Выросший в богомольной семье, Шергин, не будучи безверным, однако истиха поменял Бога вышняго на живую природу, наделив её чувствами, страстями и неугасимым разумом. Не такой ли была и Махонька-милостыныцица, великая сказительница с Пинежья Марья Дмитриевна Кривополенова, что жила в древних преданьях, как в материнской зыбке? Над солдатской койкой - фотография, где Шергин с былинщицей Марьей Кривополеновой. Марьюшка за два года до смерти: словно бы мать с запоздалым сыном-поскрёбышем. Да так оно и случилось. Оказался Шергин последним в ряду русских сказителей, кто ещё мог донести старину из давнего предания, не расплескав, во всём величии и звучности. Вот проговариваются: дескать, в темени лютой пропадал русский народишко, в пьянстве и самоедстве. Но ведь духовно несчастному народу какая бы нужда хранить свои преданья и продлять на миру череду певцов: тут, дай Бог, как бы озаботиться о своей утробушке. Да нет, вот в самом-то краю России, в Поморье, в её засторонке, ровным светом горела свеча тысячелетней поэзии, эта неугасимая лампада, куда не позабывал народ подливать маслица. И в семьдесят третьем году скончался последний певец, и долгий род сказителей кончился, наверное, навсегда. Со смертью Шергина крестьянская культура отодвинулась за окоём, покрылась неистираемым глянцем навсегда... Ни Клюеву, ни Чапыгину не удалось понять мать-землю так богобоязненно и любовно, как Шергину, и даже пятнадцать лет слепоты не замкнули певца во мраке. Шергин помнил памятью любви: это редкостный дар. Он не замолкнул в одиночестве, не затворился в гордыне от горюющего и ликующего люда, но с помощью ясного и доверчивого слова как бы всех позвал в свою обитель. Другое дело, что не все туда поспешили, но многие, кто с неспокойным сердцем, прошли мимо. Они пугались незамирающего русского словесного родника, искреннего русского чувства, могущего разбередить скрытые язвы. Во время ленинградского "дела Ахматовой-Зощенко" больше всех пострадал Борис Шергин. За "осквернение русского языка" его предали общественной обструкции и, не печатав более десяти лет, пытались выветрить из национальной памяти. Шергин прозябал, покинутый всеми, в такой непроходимой бедности, он, как милостынщик, протягивал горсть за скудным подаянием, но бывшие друзья и знакомцы отворачивались, проходили мимо. "Бобровые шубы" не узнавали "кошачьего воротника". Дневники, оставшиеся от писателя - это удивительно поучительная, искренняя исповедь. "Умел бы я художество живописное, не стал бы я слов плодить, взял бы кисть и карандаш, показал бы разум, существо и мысль того, что видит око, да слово не имеет. Видимо изобразил бы не видимое, но присутствующее. Что такое красота? Необъятно понимание её... Мое упование в красоте Руси и, живя в этих бедных селеньях посреди этой "скудной природы", я сердечными очами вижу и знаю заветную мою красоту". Поэзия освящается землёю, в которой зародилась, родина входит в твою кровь неслышно от предков твоих. Ничто не пропадает зря, все копится в нашей долгой памяти, и порою достаточно лишь её одной, чтобы понять отчие пределы. Ибо "невещественное прочнее осязаемого". ...Когда мы прощались, Шергин вдруг поскучнел, потускнел, вздохнул протяжно: "Ну и слава Богу, опять с земляком свиделся. Володюшка, веришь - нет, но я Архангельск представляю, как золотую заставку моей жизни. Только вот никого из родных там не осталось. Но знаешь, есть поверие, что когда человек умирает, то душа его первые девять дней летает куда хочет. Вот тогда я уж обязательно слетаю в Архангельск. Ну, да и ты кланяйся ему от меня, кланяйся...!" Дверь захлопнулась... Но остались полнозвучные, чистые чувством родные книги Шергина. Это бумажные листы подвластны тлену, но исповедальная мысль, но сердечная любовь к родной земле прободают все преграды лет. Вслушайтесь в хрипловатый тёплый голос Шергина, наставника к совестной жизни, подивитесь чуткости русского писателя: "У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится... оттого я и чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. А когда концы кольца оного дивно сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойно надо конец-то жизни-кольца из того же чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности..."
|