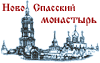Содержание№4 1998Фёдор Шаляпин
Двенадцатого апреля 1938 года умер великий артист, которого звали Федор Иванович Шаляпин. Он скончался вдали от родной страны, вдали от всего того, что окружало его в детские и молодые годы, живя последние десять с лишним лет на чужбине. Но там никто не считал его чужим: он был знаменитый на Западе человек, его приглашали лучшие оперные театры мира, имя его было так же знакомо зарубежным любителям пения, как имена прославленных итальянских звезд бельканто. Никаких внешних трудностей или неудобств, связанных с тем, что он живет в странах иной культуры, у него, по-видимому, не возникало. У него была замечательная способность к адаптации, он схватывал на лету обычаи, образ поведения и манеры той страны, где находился, будь то Франция, Англия или Германия; даже не зная хорошо языка, на котором говорили вокруг, мог так непринужденно и как бы небрежно бросить где-нибудь в купе поезда те именно слова, в произношении которых был уверен, что во Франции принимали его за француза, в Англии - за англичанина, а в Германии за немца. Автор одного из первых некрологов по Шаляпину Поляков-Литовцев, опубликовавший свой "Набросок портрета" в мае 1938 года в парижском сборнике "Русские записки", находит для этой удивительной способности очень удачное слово: "ловкость". Он пишет: "Физическому совершенству Шаляпина сопутствовала исключительная ловкость. Как нельзя было вообразить себе Шаляпина фальшиво поющим, так нельзя было поймать в нем какой-нибудь неудавшийся обыденный житейский жест. Если он что-нибудь небрежно бросал, вещь попадает как раз туда, куда он хотел; если он за чем-нибудь протягивал руку, он возьмет, что ему нужно, метко и сразу; если он захочет посолить пищу, то сделает в точную меру своего вкуса, не пересолит и не недосолит; если он вешает на стену картину, то повесит как нужно, и без усилий; если ему вздумается на клочке бумаги пошалить карандашом, то штрихи лягут на бумагу, один за другим, уверенно и окончательно, точно рисунок пал на бумагу готовым до замысла. Накладывает грим без ошибки. Если нужно поправить перед выходом на сцену самый сложный костюм, несколько последовательных прикосновений руки к ткани приведут его в порядок с возрастающей целесообразностью. Редко видно усилие - всегда внимательная, сосредоточенная и счастливая удача. Выходит ли из кабинета в блистательном фраке, собираясь на светский обед, или утром (часов в двенадцать) из ванной, в живописном халате, с открытой исполинской грудью, в туфлях на босу ногу, - та же одинаково верная, безошибочная поступь великолепного зверя, каждое движение которого подчинено совершенной мускулатуре тела и правдивому инстинкту естественного ритма. Природа создала физического Шаляпина так, как Шаляпин создавал песню... Федор Иванович любил подчеркивать обдуманный, сознательный характер своего сценического творчества. В этом была большая доля правды. Многое действительно им обдумывалось, изыскивалось, изучалось. Но едва ли может быть сомнение в том, что наиболее восхитительные, наиболее шаляпинские жесты на сцене возникали интуитивно от этой его законченной природно-физической удали, от правильной настроенности гениального инструмента. Однажды я его "поймал с поличным" на бессознательном жесте необыкновенной тонкости. Все мы постоянно, на каждом спектакле открывали новые, ранее незамеченные детали исполнения. Не знаю, на каком счету, но на одном из последних, представлений "Князя Игоря" в Париже меня привел в восхищение неожиданный и, на первый взгляд, как будто нелогичный жест. В сцене второго акта оперы, в тереме Ярославны, Галицкий пристает к княгине и похваляется: - что ему Игорь! Сам может быть князем на Путивле. Только кликну клич, и меня выберут!.. Из тысячи певцов и актеров, 999, жестикулируя эту ссору, при слове "меня" непременно ткнут пальцем в грудь себя. Это как будто и правильно - вот, этого, меня!.. Шаляпин же направлял сердитый перст на княгиню... Как это замечательно! - подумал я. Показать пальцем на себя - банальное бахвальство, а тут, ведь, возбужденный вызов княгине, противоборство: в эту минуту он думает не о своей победе, а об ее поражении, ее будущем изумлении, горькой обиде, и он естественно "подносит" это жестом - ей... На другой день говорю Федору Ивановичу: - Как это хорошо! Этот ваш жест в сторону княгини при слове "меня!" - А что? Объясняю. - Да, пожалуй, так и есть. Это правильнее. Тыкать себя в грудь тут, действительно, не пристало". Итак, исключительный успех Шаляпина за границей связан только с его врожденными качествами, которые могли по слепой игре природы выпасть на долю пуэрториканца, эфиопа или баска? Или спросим по-другому: выдающийся, несравненный талант Шаляпина - он действительно есть характеристика чисто биологическая? Нет, это совершенно не так. Изумительная внешняя красота Шаляпина, навеки запечатленная Кустодиевым, есть чисто русская красота - в другом народе могут, конечно, уродиться такие же красивые человеческие экземпляры, но их красота будет иной. То же самое относится и к той его интуиции, о которой говорил Поляков-Литовцев, к замечательной "ловкости" Федора Шаляпина. Ее происхождение нашенское, ее питали такие специфически русские душевные особенности, как деликатность, уважение к другим людям, желание перенимать у них все лучшее, а если говорить о ловкости двигательной, то всегда замечаемая иностранцами в нашем народе пластичность. Если же заглянуть еще глубже, шаляпинская адаптивность, обеспечившая ему столь большой успех в Европе, была связана и с некоторой неуверенностью в себе - как мы сейчас говорим, с "комплексом неполноценности", который в небольшой, "гомеопатической" дозе оказывается полезным, так как предохраняет человека от тупого самодовольства и заставляет его работать над собой, чтобы доказать себе и другим, что он все-таки чего-то стоит. Этот комплекс проявлялся в Шаляпине, например, в том, что он, беседуя с кем-то, обычно начинал нахваливать Горького: вот это, дескать, талант, что я перед ним. Конечно же, Федор Иванович делал это для того, чтобы услышать: "Да что вы, вы же нисколько не ниже Горького!" И сам вроде бы знал это, а подтверждения от других очень хотелось... В общем, за поразительной точностью и уверенностью Шаляпина крылась типично русская легкая ранимость. А это наше свойство коренится в другом, более глубоком, выработанном в поколениях наших предков православием - в смирении. Оно передалось Шаляпину не только генетически, но и было воспитано в нем в детстве. Его родители, простые крестьяне Вятской губернии, переселившиеся в Казань, были искренне верующими. В церковь его водили и отец и мать, но ему больше запомнилось пребывание в храме с отцом, так как Иван Яковлевич молился очень благолепно. Такое поведение отца в храме Божием было сильнее всяких поучений. А вот смирению больше учила мать: она и сама была образцом смирения - как вспоминал о ней артист, "такая скромная, малозаметная". Заложенное в детстве православное мироощущение сохранилось у Шаляпина на всю жизнь. Это особенно хорошо видно в его переживаниях, связанных с исполнением партий Мефистофеля в операх Гуно и Бойто. В то время бас был обязан иметь в своем репертуаре эти партии, и Шаляпин был принужден следовать традиции. Дирекция Императорского театра, например, просто издала приказ: "Господину Шаляпину выучить роль Мефистофеля из оперы А. Бойто". Но душа певца противилась этому, это выражалось в постоянной смене трактовок этой партии. Хотя его "Мефистофель" имел неслыханный успех и был отмечен критикой, как вершина его исполнительского мастерства, сам Шаляпин назвал эту роль "одной из самых горьких неудовлетворенностей моей артистической карьеры". По свидетельству его дочери Ирины, он часто исповедовался после исполнения этой партии, чтобы очистить душу от навязанного ей греха. В поздний период он откровенно невзлюбил изображать сатану и делал это лишь под сильным давлением антрепренеров. Отец Борис, священник, знавший Шаляпина в Париже, так писал о нем в 1995 году: "Он был человеком верующим, посещал храм по праздникам, очень любил и хорошо знал церковную музыку и, бывало, подходил к клиросу и подпевал Архиерейскому хору под управлением Н.Н. Афонского, большого знатока и мастера. Каждый год давал в одной из парижских зал концерт с Архиерейским хором: первую часть составляли вещи, которые он пел с хором... Он постоянно общался со священником не просто из проформы, а по зову души... Отношения с духовником, человеком очень опытным и значительным, были теплыми и постоянными". В книге "Маска и душа" Шаляпин признается: "первое мое приобщение к песне произошло в русской церкви, в церковном хоре". Это утверждение можно обобщить. Приобщение великого певца к той яркой и победной жизни, которую он прожил в разных странах мира, произошло у него в России и в православии. Искусствоведы не добрались пока до этого главного его корня, но все в Шаляпине выросло из него.
|